 Вера в эпоху сомнений: Сомнения как путь к истине. Беседа 24
Вера в эпоху сомнений: Сомнения как путь к истине. Беседа 24

Людмила Мазур
0 637
Из одной маленькой записи в Описи дел Канцелярии Министерства Императорского Двора получилась целая увлекательная глава истории зарождения русского кинематографа.
Меня интересовало, конечно же, все, что касалось фотографии и кинематографа. И вот что я выяснила: когда фотографы хотели прикоснуться к образам Высочайших особ, разрешения надо было спрашивать буквально на все: на съемку, печать, копирование альбомов, подношение снимков, размещение в витринах, альбомах, изданиях, демонстрации кинолент в Высочайшем присутствии и так далее, и тому подобное. Причем, это касалось в основном придворных фотографов, получивших звание Поставщика Императорского Двора. Остальные в переписку с этим ведомством вступали крайне редко и по особым случаям.
Некий А.Г.Матюхин в 1909 году ходатайствовал «о разрешении демонстрировать в ВЫСОЧАЙШЕМ присутствии исполненные на его фабрике кинематографические ленты этнографического содержания». Мне стало любопытно, кто такой этот Матюхин? Что за фильм он предлагал для просмотра Высочайшим особам? И вот что выяснилось.
Кругосветная киноэкспедиция купца Матюхина.
«Быстрое развитие и успех кинематографа в России, естественно, вызвали немалое число попыток создать доходные предприятия в этой новой отрасли промышленности. К сожалению, недостаток технической осведомленности, неправильный подход к делу в большинстве случаев приводили эти начинания к полному провалу. Одним из таких случаев и был «случай Матюхина».
В 1909 году в Петербурге появился весьма энергичный, представительный мужчина—московский купец Матюхин, в несколько дней сделавшийся «сенсацией». Им была организована большая киноэкспедиция, которая, совершив кругосветное путешествие, или, по крайней мере, путешествие весьма огромного масштаба, в скором времени должна была возвратиться на родину и везла с собой несколько десятков тысяч метров заснятой кинопленки—количество по тем временам огромное! Надо напомнить, что в те времена даже Люмьер и Пате крайне осторожно расходовали метраж: фильм был дорог, а доход от продажи кинокартин ввиду ограниченности рынка сбыта—не так уж велик.
На Невском, в доме банкира Вавельберга, Матюхин снял большую контору, с секретарями, телефонами, машинистками — все весьма внушительного вида. Только немногие знали, что все это «американское» великолепие и представительство сдается первому встречному, со всем штатом и «делами», за посуточную арендную плату.
Матюхин пригласил в свою контору небольшой кружок имевшихся тогда в Петербурге кинодеятелей и владельцев кинотеатров, и на этой, своего рода, «пресс-конференции», изложил свои планы.
Он приехал в столицу «поставить» свой фильм с невиданным ранее великолепием. Для демонстрации и премьеры был арендован «железный зал» Народного Дома. Автору этих строк Матюхин заказал проект всей технической установки для кинопроекции на 3000 зрителей на соответственно громадный экран и просил не стесняться в расходах. Дело было новое и нелегкое, так как проекторы того времени не имели достаточной защиты от возгорания фильма, а громадность помещения требовала для приличного освещения экрана применения вольтовой дуги не менее 150 ампер.
Были заключены договоры и с петербургскими кинотеатрами на предоставление им нового фильма «первым», «вторым» и «третьим» экранами, после 10-дневной премьеры в зале Народного Дома.
Доходность будущего фильма и то, что он «сделает публику», рассчитывалось по аналогии. В те годы в Петербурге и в провинции с огромным успехом выступала русская путешественница Корсини, которая сопровождала свои лекции о кругосветном путешествии сотнями превосходных раскрашенных диапозитивов, снятых, действительно, с натуры, так как Корсини возила с собой собственного фотографа и на каждом снимке фигурировала сама. Очевидно, что если «туманные картины» с очень слабым лекционным сопровождением Корсини делают сборы, то «живая фотография» соберет неисчислимое количество публики.
Расчет этот был вполне правильным. Потребность в образовательных кинофильмах вполне назрела, и публика, несомненно, приняла бы новый фильм восторженно.
К сожалению, все дело сорвалось. Матюхин вложил в это дело более двухсот тысяч рублей, но не обеспечил его квалифицированными кадрами. Кто у него составлял план и сценарий путешествия, он в общих чертах рассказывал. Матюхин говорил, что он привлек к этому делу ряд видных географов, преподавателей московских учебных заведений, некоторых лекторов-популяризаторов и т.д. Но ему не удалось найти приличных исполнителей — прежде всего, знающих операторов и фотографов. Надо сказать, по правде, что их тогда и не было в тех кругах, где их искал Матюхин.
Все мало-мальски дельные и знающие люди были уже на службе у Ханжонкова в Москве, Дранкова и «Минотавра» в Петербурге. Все эти люди начинали с азов, «крутили» вслепую, проявляли «на глазок» и лишь шаг за шагом приобретали необходимый минимум навыков и знаний. Ничего нет удивительного в том, что группа, посланная Матюхиным в громадное путешествие без всякой подготовки, без предварительной тренировки в лабораториях, очутившись в условиях съемки от Арктики до тропиков, ничего не сумела сделать.
Когда подготовка демонстрации премьеры в Петербурге подходила к концу, уже в 1910 году экспедиция Матюхина прибыла в Россию и приступила к проявке заснятого материала. Негативы получались такие, что никакой копии получить с них не было возможности. Все было сплошным браком. Экспозиция всегда была неправильная. Современная пленка дает доброкачественные негативы при изменении экспозиции примерно до 10 раз. Прежняя пленка при ошибке в экспозиции в 2 раза уже давала вполне неудовлетворительные результаты. Никаких объективных фотометров тогда еще не существовало. К тому же не было и современных характеристик фотопленки и стабильности эмульсии, каждая коробка в 300 метров отличалась по чувствительности от другой. Проявление также было ниже всякой критики. Вследствие этого все предприятие Матюхина «лопнуло», и он поспешил покинуть Петербург.
Каждому кинодеятелю теперь известно, что экспедиция такого масштаба, как затеянная Матюхиным, должна была бы стоить не двести тысяч, а не менее двух-трех миллионов, что снимать надо было в несколько аппаратов, вести в походе контрольное проявление, что подготовка такой экспедиции требовала серьезного научного подхода и т.д.
Но в те времена расход на один фильм в 2-3 миллиона был немыслим, так как никакой успех у публики не мог окупить расходов. Кинотеатров было мало, прокат не организован, обмена с заграницей не было. Объективная обстановка была против предприятия Матюхина, и он жестоко поплатился. Но в истории кинематографии этот инцидент должен быть отмечен как одна из первых в мире попыток, хотя и с «негодными средствами», создать грандиозный образовательный видовой и географический фильм...»
(Борис ДЮШЕН. «Беглые воспоминания». Борис Вячеславович ДЮШЕН (1886–?) — один из первых русских киноинженеров, специалист по кинотехнике. В 1909 году совместно с А. Семеновым издал в Санкт-Петербурге книгу «Кинематограф. Его устройство и применение»).
Фабрикант маргарина.
А вот как вспоминает о своем знакомстве с купцом Матюхиным знаменитый кинорежиссер, один из пионеров русского кинематографа, Александр Алексеевич Ханжонков.
«В 1907 г. в Париже я познакомился с пожилым господином, московским фабрикантом маргарина А.Г. Матюхиным. Я поделился с ним своими мечтами и планами по киноделу. Фабрикант маргарина неожиданно предложил мне принять его компаньоном, причем он предлагал мне большую сумму денег и активное участие в работе. Я отклонил категорически его предложение, зная его как человека неуравновешенного и неврастенического. Обиженный отказом, Матюхин сказал мне на прощанье: «Ну, вы, молодой человек, еще услышите обо мне...» И он сдержал свое слово.
Впоследствии я узнал, что Матюхин купил в Париже кинолабораторию, пригласил свободных операторов и объявил о съемке красивейшего железнодорожного пути Париж—Пекин, длиною в 15 000 верст. Задумано было недурно! Дорога представляла большой интерес для Западной Европы во многих отношениях, не говоря уже о том, что виды малоизвестной европейской и азиатской России должны были иметь успех на европейских экранах.
Весь путь Матюхин разбил на участки, оформив с каждым оператором договор на съемку соответствующего отрезка пути. Операторы предъявили Матюхину свои «пробочки», по нескольку кадриков от каждой кассеты, в доказательство выполнения договора, и получили расчет. Когда была собрана вся масса негативов, Матюхин пригласил опытного лаборанта для их обработки. Результаты съемки «П — П» — так сокращенно называлась картина — были неудачны. Большинство негативов оказалось негодным по техническим данным и не интересным по материалу.
Матюхин ликвидировал свою парижскую «фабрику» и возвратился в Москву с небольшим сундучком лучших негативов. Я выслушал печальное повествование огорченного фабриканта и выбрал для продажи только снимки «Праздник «Байрам» в Средней Азии».
(А. А. Ханжонков «Первые годы русской кинематографии. Воспоминания»).
Людмила Мазур
Фото предоставлено автором
Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации.
 Вера в эпоху сомнений: Сомнения как путь к истине. Беседа 24
Вера в эпоху сомнений: Сомнения как путь к истине. Беседа 24
 В России утвердили норматив приезда «Скорой» для экстренной помощи
В России утвердили норматив приезда «Скорой» для экстренной помощи
 Для жителей Фиолента в рамках госпрограммы определено финансирование для водопровода и подстанции
Для жителей Фиолента в рамках госпрограммы определено финансирование для водопровода и подстанции
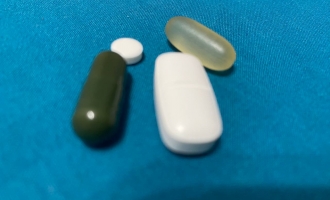 В Севастополе «Полевая кухня» проводит сбор медикаментов для участников СВО
В Севастополе «Полевая кухня» проводит сбор медикаментов для участников СВО
 В Севастополе сотрудники ДПС задержали автоледи, накопившую внушительную сумму неоплаченных долгов
В Севастополе сотрудники ДПС задержали автоледи, накопившую внушительную сумму неоплаченных долгов
 О новом статусе классных руководителей: мнение педагогов
О новом статусе классных руководителей: мнение педагогов
 В Севастополе простились с младшим сержантом Алексеем Викторовичем Цветковым
В Севастополе простились с младшим сержантом Алексеем Викторовичем Цветковым
 Дептранс Севастополя заплатит 450 тыс. рублей пострадавшей на небезопасной лестнице
Дептранс Севастополя заплатит 450 тыс. рублей пострадавшей на небезопасной лестнице
Используя сайт a4.news, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике конфиденциальности и обработки Персональных данных
Комментарии 0